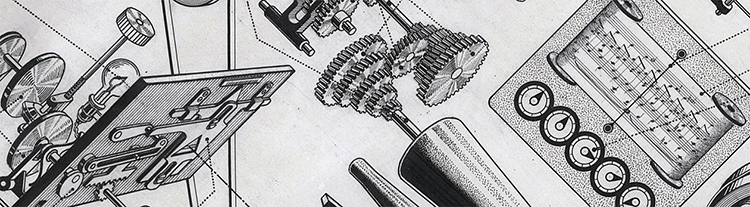
С. Румянцев
«Коммунистические колокола»
Это слова Михаила Фабиановича Гнесина, который выразил в них свои впечатления от одного необычайного музыкально-звукового действия, разыгранного 7 ноября 1923 года в самом центре Москвы.
Начало 20-х годов — период, когда складывается структура нового типа культуры, период кристаллизации новых организационных и художественно-творческих форм, но одновременно и эпоха «кризиса личного творчества» (Б. Асафьев). Это время, когда не потеряли еще привлекательность грандиозные революционно-романтические утопии «мирового художественного Октября», хотя начавшееся мирное строительство, требовавшее прежде всего практической, деловой — земной — деятельности, реалистически скорректировало первоначальные космические их масштабы.
Наиболее явственно это проявилось в сфере праздничных пленэрных форм: грандиозные петроградские массовые зрелища 1920 года завершили первый период их развития, который можно было бы назвать периодом избыточного насыщения жизни искусством. «Искусство на улицу!» — лозунг, выдвинутый самим временем и сформулированный так П. Керженцевым в его некогда знаменитой книге «Творческий театр», — был первым, буквально-прямолинейным прочтением глубочайшей ленинской мысли.
«Искусство принадлежит народу...» Значит, надо двинуть его в народ, в массы, насытить художеством повседневность, пропитать каждую клеточку того особенного, «преображенного революцией» быта, который носил подчеркнуто открытый, публичный, часто именно пленэрный характер. Жизнь концентрировалась на огромных пространствах городских площадей и улиц, выплескивалась из тесных квартир и коробок зданий; и казалось, что и искусству, если оно хочет соответствовать времени, место именно и только там, на улице, на площади. «Весь мир — театр...» — в те годы, думается, образ этот воспринимался много реальнее и «бытовитее», чем сегодня.
Но постепенно от массово-зрелищных празднеств свершается переход к многочисленным агитационным формам, более скромным по масштабам, но и более идеологически точным, нацеленным на определенный плакатно-лозунговый эффект. От празднеств же сохраняется главное — реформаторский дух, самодеятельно-экспериментальный творческий тонус, не только допускавший, но требовавший участия «публики в действе. И если для первых послеоктябрьских лет более всего подходит образ весеннего разлива могучих вод, то начало 20- x годов — это время направленных потоков революционно-созидательной энергии. Появилась возможность окинуть трезвым взглядом преображенную, омытую землю и приступить уже к первым — самым важным! — работам на ней.
Да, хочется взглянуть на те далекие, но все еще отдающиеся в сердце набатным горном годы глазами Пахаря, стоящего перед зовущим готовым принять в себя семена будущей светлой жизни Полем. Это чувство первопроходца — вечный импульс самых грандиозных и решительных начинаний — было естественным для молодых людей юной Республики. Весенняя культура, время сева! И — пафос обновления: жить по-новому, работать по-новому, чувствовать и мыслить — тоже по-новому!
Все это в общем известно — через статьи и речи В. И. Ленина и Л. В. Луначарского, через поэзию В. Маяковского, фильмы Д. Вертова драматургию Вс. Иванова и Б. Лавренева, театр Вс. Мейерхольда, музыку проколловцев и молодого Д. Шостаковича... Но каждый из нас может заново открыть для себя это время - и вдохновиться, и загореться им. Для меня одним из таких открытий эпохи стала поэзия Алексея Гастева — рабочего-поэта, рабочего-ученого, рабочего-интеллигента. О стихах и «стихо-прозе» этого «Овидия горняков и рабочих» (Н. Асеев) речь еще впереди. Теперь же приведу его поразительные по яркости и ярости определения именно чувства первопроходца новой культуры.
 В своих многочисленных воззваниях-манифестах, где трудно отделить научную мысль от поэзии, агитационно-лозунговые приемы от возвышенно-литературных и которые вовсе не случайно часто назывались «Восстание культуры», он писал: «Грянула революция. Разбила плотины дала лавину энергии <...>
В своих многочисленных воззваниях-манифестах, где трудно отделить научную мысль от поэзии, агитационно-лозунговые приемы от возвышенно-литературных и которые вовсе не случайно часто назывались «Восстание культуры», он писал: «Грянула революция. Разбила плотины дала лавину энергии <...>
Надо объявить мобилизацию миллиона юных робинзонов... и снарядить их в большой поход по проселочным дорогам, по лесам, по деревням, неразбуженным болотам и всюду строить новое жилье от избы до небоскреба, поселить говор инструмента от топора до мотора и наполнить Россию культурным монтажом».
Другому манифесту под тем же названием предпослан эпиграф-призыв:
«Монтеры!
Вот вам выжженная страна.
У вас в сумке два гвоздя и камень.
Имея это — воздвигнете город!»
Робинзоны, монтеры культуры, «ратники культуры»— в таких энергично-действенных образах определяет неистовый автор «Поэзии рабочего удара» пионерское мироощущение эпохи...
Однако вернемся к заголовку нашей статьи. Какое же произведение назвал таким великолепным звучно-гудящим именем М. Гнесин? Знаменитую, везде упоминаемую, но тем не менее загадочную сегодня для большинства музыкантов «Симфонию гудков» А.Авраамова.
Что же это такое — загадочная «Гудковая», как называл свое детище донской казак Арсений Михайлович Краснокутский (1886 -1944), известный всем под псевдонимом Авраамов (или Ars , как подписывал он свои дореволюционные статьи-манифесты)?
Впервые я узнал о ней из статьи Д. Житомирского, где указывалось, что «Симфонии гудков» были осуществлены в Москве и Баку, а «в бакинском опыте принимали участие заводские и корабельные гудки, сирены, автотранспорт, колокола и даже пушки и пулеметы».
А вот три последних по времени упоминания о «Гудковой».
 Первое. «Он [Авраамов] стремился вынести свое искусство на простор улиц и площадей. Так он стал автором «симфонии гудков», в которой вместо музыкальных инструментов использовались заводские трубы [?], свистки паровозов и пароходов». Далее следует беспощадная оценка-приговор: «Отрыв от интонационного материала, накопленного передовой музыкальной культурой, предвзятый отказ от выработанных историей средств музыкальной выразительности, игнорирование музыкальных инструментов традиционного типа — все эти нововведения не позволили Авраамову достичь желаемой цели — выразить революционные чаяния и переживания народных масс» (3) .
Первое. «Он [Авраамов] стремился вынести свое искусство на простор улиц и площадей. Так он стал автором «симфонии гудков», в которой вместо музыкальных инструментов использовались заводские трубы [?], свистки паровозов и пароходов». Далее следует беспощадная оценка-приговор: «Отрыв от интонационного материала, накопленного передовой музыкальной культурой, предвзятый отказ от выработанных историей средств музыкальной выразительности, игнорирование музыкальных инструментов традиционного типа — все эти нововведения не позволили Авраамову достичь желаемой цели — выразить революционные чаяния и переживания народных масс» (3) .
Второе. «В ряде работ Авраамов не избежал формального экспериментаторства... влияния вульгаризаторских пролеткультовских идей («Симфония гудков» — музыка, воспроизводимая с помощью фабричных и заводских гудков, 1922) и т. п.» (4) .
Наконец, третье — предельно краткое и... предельно неточное: «1922 г. Исполнение в Баку (7 ноября) «Симфонии труда» с использованием заводских гудков, залпов артиллерии и т. п.» (5).
Итак, во-первых, заинтересованному читателю неясно, что именно звучало, — этот главный, казалось бы, для музыковедов вопрос заслонился внешней экстравагантностью «инструментария».
Во-вторых, неясна творческая природа «Гудковой»: то ли она «организована (кем же?) по проекту Авраамова» (Д. Житомирский), то ли это некое футуристическое сочинение «из элементов, неведомых прошлой музыкальной культуре» (С. Степанова), то ли оригинальная «музыка», воспроизводимая гудками (И. Ямпольский), то ли вообще анонимный опус (В.Егорова).
В-третьих, с 1960 года больше не упоминается московское «исполнение», от которого осталось лишь таинственное «т.п.» в «Музыкальной энциклопедии». С. Степанова, правда, сообщает о нижегородской премьере «Гудковой» — это сведение почерпнуто из известной статьи самого А. Авраамова в «Горне», где, однако, говорится о неудачной, по сути несостоявшейся попытке организации «симфонии» (6) ...
Между тем, внимательное чтение этой статьи сразу снимает многие вопросы историко-искусствоведческой оценки «Гудковой»! Важность же, этих вопросов не подлежит сомнению: слишком; много характернейших примет эпохи, ее важнейших эстетических тенденций слились в данном явлении, и сегодня еще поражающем воображение.
Первая неожиданность: никакой «футуристической симфонии», музыки из «еще неведомых элементов» не обнаруживается.
Во всех редакциях «Симфония гудков» задумывалась и осуществлялась как звуковое оформление празднеств в масштабе целого города. Исключение составляла «предварительная редакция» 1919 года: «Волга Нижний [Новгород]. Провожаем эшелоны на встречу Колчаку в Казань. Ревем на прощанье всей эскадрой, пока не скроется из глаз серый дымок... делаем, наконец, первую попытку организации... Трудно, не удастся, слишком много сирен, но все контуры массива Интернационала можно различить» («Горн»).
 В том далеком году А. Авраамов был матросом Волжской флотилии. Это лишь маленький эпизод из его фантастической биографии, которая, будь она написана, читалась бы как увлекательнейший роман. Грандиозный революционно-утопический пафос его идей был реализован им самим, кажется, не столько в творчестве — научном, музыкальном, критическом, — сколько именно в собственном «жизнестроении». Человек с тысячью лиц: музыкальный критик, сотрудник основных русских музыкальных журналов, блестящий полемист и публицист; теоретик, акустик, фольклорист; один из организаторов музыкальных студий Пролеткульта в Москве, Новгороде, Ростове; правительственный комиссар Наркомпроса в Казани; изобретатель новых музыкальных инструментов («смычковый полихорд» и др.) и «рисованного звука» в кино; действительный член ГАХНа, деятельный участник коллоквиумов ГИМНа, преподаватель Ростовской и Московской консерваторий; создатель собственной сорокавосьмитоновой «универсальной тональной системы» и автор оригинальной музыки, написанной в этой системе; один из первых музыкантов, представлявших советское искусство на международных музыкальных форумах; музыкальный эксцентрик и «по совместительству» лектор-пропагандист (Германия, 1927);
В том далеком году А. Авраамов был матросом Волжской флотилии. Это лишь маленький эпизод из его фантастической биографии, которая, будь она написана, читалась бы как увлекательнейший роман. Грандиозный революционно-утопический пафос его идей был реализован им самим, кажется, не столько в творчестве — научном, музыкальном, критическом, — сколько именно в собственном «жизнестроении». Человек с тысячью лиц: музыкальный критик, сотрудник основных русских музыкальных журналов, блестящий полемист и публицист; теоретик, акустик, фольклорист; один из организаторов музыкальных студий Пролеткульта в Москве, Новгороде, Ростове; правительственный комиссар Наркомпроса в Казани; изобретатель новых музыкальных инструментов («смычковый полихорд» и др.) и «рисованного звука» в кино; действительный член ГАХНа, деятельный участник коллоквиумов ГИМНа, преподаватель Ростовской и Московской консерваторий; создатель собственной сорокавосьмитоновой «универсальной тональной системы» и автор оригинальной музыки, написанной в этой системе; один из первых музыкантов, представлявших советское искусство на международных музыкальных форумах; музыкальный эксцентрик и «по совместительству» лектор-пропагандист (Германия, 1927);  человек, близко знавший Танеева, Блока, Есенина, Маяковского, Луначарского, Кирова, Калмыкова, Буденного, сотрудничавший с Б. Красиным, С. Эйзенштейном, Н. Гарбузовым, Л. Терменом; один из пионеров научного изучения музыкального творчества народов Северного Кавказа, автор первых профессиональных произведений в Кабардино-Балкарии; музыкальный руководитель Кабардино-Балкарского народного хора и хора Яркова в Москве (7).
человек, близко знавший Танеева, Блока, Есенина, Маяковского, Луначарского, Кирова, Калмыкова, Буденного, сотрудничавший с Б. Красиным, С. Эйзенштейном, Н. Гарбузовым, Л. Терменом; один из пионеров научного изучения музыкального творчества народов Северного Кавказа, автор первых профессиональных произведений в Кабардино-Балкарии; музыкальный руководитель Кабардино-Балкарского народного хора и хора Яркова в Москве (7).
Возвращаясь к нижегородскому опыту, отметим, что и тут налицо сугубо утилитарное сигнально-праздничное значение «Гудковой» с характерным использованием музыкального знамени, «песни песней» революции. Для того, чтобы сделать такой вывод, не требуется никаких особо сложных ходов историко-искусствоведческой мысли; сам автор и «организатор» «Гудковой симфонии» великолепно сознавал ее природу и место в культуре эпохи, о чем и написал кратко и точно в статье о бакинском опыте:
«Мы хотим, чтобы в 6-ю годовщину каждый город, имеющий десяток паровых котлов, организовал достойный «аккомпанемент» Октябрьскому торжеству, и даем здесь инструкцию по организации «Симфонии гудков» применительно к различным местным условиям. После удавшегося опыта это уже нетрудно: нужна лишь инициатива и энергия» («Горн»).
Собственно музыкальным материалом «Гудковой» служили «Интернационал», «Варшавянка» (исполнившаяся, впрочем, объединенным духовым оркестром, включенным в «партитуру» - сценарий) и «Марсельеза» — самый представительный ряд гимнов-плакатов, использовавшийся, пожалуй, во всех революционных празднествах тех лет. Традиционными были и кульминационное массовое пение «Интернационала», и завершающий церемониальный марш-парад дефилирующих войск.
 «Программу» московской «Гудковой» сообщала «Рабочая Москва»: «Марсельеза», «Интернационал», «Похоронный марш», комсомольский марш «Молодая гвардия» и «Варшавянка». Из описания очевидца узнаем: «Ровно в 12 1/2 часов дня после орудийного салюта началось исполнение. Первыми шли «фанфары», напоминающие своими резкими звуками сигналы миноносцев. Затем в сопровождении ружейных и орудийных залпов следовал «Интернационал»... «Молодая гвардия» и «Варшавянка» (9).
«Программу» московской «Гудковой» сообщала «Рабочая Москва»: «Марсельеза», «Интернационал», «Похоронный марш», комсомольский марш «Молодая гвардия» и «Варшавянка». Из описания очевидца узнаем: «Ровно в 12 1/2 часов дня после орудийного салюта началось исполнение. Первыми шли «фанфары», напоминающие своими резкими звуками сигналы миноносцев. Затем в сопровождении ружейных и орудийных залпов следовал «Интернационал»... «Молодая гвардия» и «Варшавянка» (9).
Итак, специально сочиненной новой музыки ни в Баку, ни в Москве практически не было, если не считать кратких вступительных фанфар. Но это отнюдь не умаляет значения авторского творчества: в абсолютном большинстве массовых празднеств и вообще пленэрных форм всякого рода во все эпохи преобладала именно уже известная массовой аудитории музыка; все дело было в режиссуре этого готового материала. Так, из грандиозных советских празднеств эпохи военного коммунизма лишь в одном случае была введена специально написанная «Симфония» Гуго Варлиха, также игравшая роль вступления, интрады, «фанфар».
К тому же, как явствует из писем Арсения Михайловича, существовали весьма серьезные материальные препятствия, помешавшие реализовать проект, впервые выдвинутый им в статье в «Горне», где, объясняя устройство «магистрали» — простейшего органа из паровых гудков, основного музыкального инструмента симфонии, он писал:
«Количество тонов: минимально (для одной мелодии «Интернационала») 12: e , f , fis , g , gis , a , h , c 1, d 1, e 1, f 1, g 1. Желательно прибавить С, F , G , c , d . С 17-ю тонами уже возможна минимальная гармонизация мелодии. Дальнейшее увеличение развязывает музыканту, дающему свою транскрипцию, руки: он может уже свободно гармонизовать гимн и вообще написать специально поданную «симфонию».
«Симфония», увы, не пойдет целиком — не хватает басовых тонов: только отдельные темы в виде фанфар...» — рассказывает А. Авраамов о московской «Гудковой» (10). А после ее исполнения называет и еще некоторые моменты, «бывшие вне нашей воли: нам дали, например, всего 27 пушечных выстрелов! Это на большой-то барабан! А пулеметов совсем не было... только ружейные залпы! А над Красной площадью одновременно с нами гудели 2 десятка аэропланов...» (11).
 Сегодня читатель может, наконец, познакомиться с этими «фанфарами» — крошечным, но подлинным кусочком оригинальной музыки «Симфонии гудков», звучавшей над Москвой в далеком ноябре 1923 года (12).
Сегодня читатель может, наконец, познакомиться с этими «фанфарами» — крошечным, но подлинным кусочком оригинальной музыки «Симфонии гудков», звучавшей над Москвой в далеком ноябре 1923 года (12).
Как и всех читавших бакинское описание «Гудковой», меня, конечно, заинтриговало использование в качестве ударных ружейно-пулеметно-орудийных залпов. Ведь это так колоритно, экзотично и эксцентрично!!! Крайне интересны в данной связи следующие комментарии А. Авраамова:
«Артиллерия. При большой площади разбросанности гудков необходимо иметь для сигнализации хотя бы одно тяжелое орудие и возможность бить из него боевым снарядом (шрапнель не годится, ибо, разрываясь в воздухе, наиболее опасна и дает второй звук взрыва, могущий сбить с толку исполнителей).
«Большой барабан» может дать и полевое орудие.
Опытные пулеметчики (опять-таки при условии стрельбы боевой лентой) не только имитируют барабанную дробь, но и выбивают сложные ритмические фигуры.
Холостые ружейные залпы и частый огонь пачками хороши для звукописных моментов» («Горн»).
Однако что здесь, в самом деле, так уж удивительно? Использование залпов в качестве «шумо-ударного» эффекта в музыке — вещь давно известная! Тем более при оформлении празднеств, массовых зрелищ и т.д. За примерами далеко ходить не надо — достаточно ознакомиться с описаниями ранних советских праздников, например, знаменитой петроградской «триады» 1920 года.
Из книги П.Керженцева видно, что от первой постановки (мистерия «Гимн освобожденному труду», 1 мая) к последней («Взятие Зимнего», ноябрь) значение реально-шумовых, и в том числе залповых, эффектов возрастало. Да это и понятно: ведь от классических аллегорий в духе празднеств Великой французской революции постановщики постепенно подошли к художественной реконструкции реального исторического события (13). Это привело и к усилению ценности всего подлинного: места действия (Дворцовая площадь, Зимний, Нева), исполнителей (в числе которых, по словам П. Керженцева, было много действительных участников Октябрьского штурма), звуков, шумов и т.д. Залпы «Авроры», пулеметная и ружейная пальба, гудки и сирены заводов, фабрик, судов, стук огромного молота — все эти разнообразные реально-звуковые средства, наряду с музыкой («Интернационал» и «Марсельеза», вступительные фанфары и «Симфония» Гуго Варлиха, «иллюстрирующая переживания Временного правительства и пролетариата», военные марши), выполняли уже не просто иллюстративно-фоновые функции, но и благодаря режиссерскому распределению их в форме целого складывались в некую первично организованную художественную композицию.
После драматического «срыва в разработке» (внезапная тишина, усиленная исчезновением во тьме обеих платформ-сцен, а также грандиозным «полиэкранным» эффектом (14), ослепительным звоном вступали свето-звуко-музыкальные аккорды апофеоза: «Трещат пулеметы. Гремит артиллерия. Орудийный обстрел «Авроры». Слышны сирены и гудки. Фейерверк. Интернационал стотысячной толпы. Парад войск с факелами». Море света и звуков!
Это — типичный пример синкретического праздничного звуко-зрелища, «действа», и совершенно очевидна непосредственная связь подобных, хорошо известных и многократно опробованных моделей с замыслом «Гудковой симфонии». Действенная ее природа особенно отчетливо проявилась в бакинском варианте: разнообразие средств и топографической реальности, а также сами масштабы города направили мысль А. Авраамова именно в эту сторону. Во всяком случае, именно таков был смысл всех остальных (кроме магистрали-органа и «ударных») средств — гудков фабрик, заводов, паровозов и судов, которые не настраивались друг относительно друга, а также сирен, колоколов и шумовой группы в составе автомобилей и аэропланов. «При большом количестве неподвижных гудков (фабрики, заводы, паровые мельницы, доки, депо и т. д.),— писал он,— их можно использовать группами в развитии музыкальной картины. Например, в Баку таким образом развертывалась музыкальная картина тревоги к боя. Сигналы к вступлению групп за дальностью расстояния подаются орудийными залпами». Такова же и функция сирен флота и заводов: «Они вступают самостоятельно, в особых эпизодах, поодиночке или аккордами (параллельно и в противодвижении) на органном пункте басового гудка под ружейные и пулеметные залпы, главным образом как средства звукописи и сигнализации» («Горн»).
Что было в Баку 7 ноября 1922 года, то есть что представляла собою эта «звуковая картина тревоги, разворачивающегося боя и победы армии Интернационала»,— видно из статьи А. Авраамова в «Бакинском рабочем», которая была не только подробной инструкцией к исполнению, но и изложением сценария-программы «действа»:
«...Полуденная пушка отменяется.
[ I часть. «Тревога».] По первому салютному залпу с рейда (около 12 часов) вступают с тревожными гудками Зых, Белый город, Биби-Эйбат и Баилов.
По пятой пушке вступают гудки Товароуправления Азнефти и доков.
По десятой — II -я и III -я группа заводов Черногородского района.
По 15-й — 1-я группа Черного города и сирены флота. В то же время четвертая рота армавирских комкурсов, предводительствуемая объединенным духовым оркестром с «Варшавянкой», уходит к пристани.
По 18-й пушке вступают заводы горрайона и взлетают гидропланы.
По 20-й — гудок железнодорожного депо и оставшихся на вокзалах паровозов. Пулеметы, пехота и паровой оркестр, вступающие в то же время, получают сигналы с дирижерской вышки непосредственно...
В течение пяти последних выстрелов тревога достигает максимума и обрывается с 25-й пушкой. Пауза. Отбой (сигнал с магистрали).
[ II часть. «Бой».] Тройной аккорд сирен. Снижаются гидропланы. «Ура» с пристани. Исполнительский сигнал с магистрали. «Интернационал» (4 раза).
На второй полустрофе вступает соединенный духовой оркестр с «Марсельезой».
При повторении (первом) мелодии «Интернационала» вступает хором вся площадь <...> и поет все три строфы до конца. В конце последней строфы возвращаются армавирцы с оркестрами, встречаемые ответным «ура» с площади. Во все время исполнения «Интернационала» районные заводские гудки, вокзал (депо и паровозы) молчат.
[ Ill часть. «Апофеоз победы».] По окончании - дают общий торжественный аккорд, сопровождаемый залпами и колокольным звоном в течение 3-х минут. Церемониальный марш.
«Интернационал» повторяется еще дважды по сигналам во время заключительного шествия. После третьего (последнего) исполнения по сигналу сирен снова общий аккорд всех гудков Баку и районов» (15).
Итак, сценарий-программа, повторяет содержание многочисленных массовых пленэрных действ и революционно-исторических «инсценировок», однако повторяет лишь в общих чертах, оперируя не театрально-сюжетными, но обобщенно-музыкальными образными средствами. Это — первая стадия обособления собственно звукового («шумо-музыкального») пласта праздничного действа, пласта, в перспективе тяготеющего к программной музыке.
(«Может быть взята какая угодно программа,— писал автор. — Все зависит от мощности «оркестра» и расположения районов. Минимально может быть исполнен просто «Интернационал», «Молодая гвардия», «Похоронный марш» (если процессия проходит мимо могил жертв революции). Наконец, может быть исполнено вообще любое музыкальное произведение, укладывающееся по количеству тонов в средства города»! («Горн»).
Местные условия в самом деле определяли многое. И через год в Москве «действенное» начало отходит на второй план, поскольку возможности перемещения источников звука в «праздничном пространстве» были значительно скромнее. На первый план выступила чисто звуковая, фоническая сторона «Гудковой», которая также была, как отмечалось ранее, значительно беднее по использованным звуко-шумовым средствам.
Подробного сценария московского исполнения мне найти не удалось. Однако газетные описания того времени помогают воссоздать атмосферу «гудкового действа». Вот фрагмент большого очерка о ноябрьских торжествах.
«В воздухе стаи советских дюралюминиевых и других птиц стрекочут свои бензинные могучие песни... Но, чу! Что это такое?
Над Москвой, которая сегодня не работает, вдруг раздаются, реют в воздухе звуки какой-то гигантской свирели... Поет свирель, переливаются звуки. Это запела паровая магистраль из фабричных гудков на электрической станции на Раушской набережной.
Паровые необычные звуки растут, ширятся. Вот громыхнула пушка, за ней другая... Это «ударные» пролетарской симфонии.
Но самое мощное впечатление создалось, когда все фабрики, заводы, вокзалы загудели, закричали в ответ титаническое «ура» медными глотками своих паровых гудков. Этот крик победы, вырвавшийся из стальных грудей машин и паровозов, был слышен по всей Москве» (16).
Тот же «действенный» момент — коллективный подхват районами «запева» центра — отмечал и другой автор. «Захватывающее впечатление произвел отклик гудков московских фабрик и заводов и паровозов железных дорог. Этот могучий отклик со всей Москвы долгое время колебал воздух, напоминая издали грандиознейший колокольный звон. Впечатление от этой необыкновенной переклички было поистине величественно» (17).
Судя по тексту, автор заметки не был музыкантом, но тем ценнее его ассоциация с колокольным звоном. Это лишнее доказательство того, что определение М. Гнесина — отнюдь не красивая метафора, но реальный слуховой образ возникший у многих слушателей. И здесь мы можем перейти к оценке «Гудковой» ее современниками.
«Видным музыкальный теоретик тов. М.Ф.Гнесин <...> полагает безусловно необходимым продолжение работ в этой области: гудковая музыка может заменить колокольный звон как средство коллективно-организующего воздействия»,— писала «Правда» 18 . Думается, именно «пролетарский аналог звона» имел в виду и А.Углов, когда называл «паровой звук... вполне подходящим для монументальных эффектов» (19), поисками которых вдохновлялось большинство художников, мечтавших о новом массово-героическом, подлинно революционном искусстве.
В целом же отзывы современников четко раздваиваются, и почти всегда оценка соответственно музыкальных компонентов — мелодии, гармонии, контрапункта, музыкальной формы — носит отрицательный характер. С другой стороны, М. Данилов, например, описывая впечатление от бакинской «Гудковой», вообще не упоминает о мелодии и т. д. — в фокусе его внимания оказывается картинно-действенная сторона: «Рявкает пушка... Бухает другая, третья... Гремит «ура»... Звучат оркестры... И, как бы приветствуя великий трудовой праздник, сквозь небесную пасмурь просияло солнце...
Тарахтят пулеметы... Трескуче проносятся над площадью гидропланы... Звуки марша сплетаются с удалыми песнями красноармейцев и аскеров... Переливчато звучат гудки, создавая своеобразную дикую и радостную симфонию» (20).
Вновь отмечено характерное темброво-гармоническое качество звучания — «переливчатость», звончатость — и дана та же эмоциональная его расшифровка. Очевидна опять-таки ассоциативная закономерность гнесинского образа-плаката! Гудки в «Гудковой» действительно выступили фонически-эмоциональным аналогом основного звукового символа праздника дореволюционной России — колокольного звона, но по мощи, силе, не говоря уже о новом содержании, значительно превзошли его. Ощущение слушателя здесь было, конечно, преимущественно ощущением «изнутри»: город-оркестр, город-хор, город-«музыкальная шкатулка»!
...Море пловца, плывущего в нем, совсем иное, чем, скажем, море на картинах Айвазовского: нет ни необъятной дали, ни глубины, ни буйства красок, но есть горько-соленый вкус, тепло или холод, плотность, упругость водной среды и т. д....
Московские рецензенты зафиксировали те же основные элементы, попавшие в фокус восприятия, несмотря на существенную разницу в «оркестровке», «тематическом материале» и в самом замысле московской и бакинской «симфоний».
Так, А. Углов писал: «Предварительных репетиций на гудках сделать не могли, сила одновременного звучания нескольких труб была настолько потрясающей в буквальном смысле слова, что не все устаивали на ногах <...> К тому же некоторые гудки давали при исполнении не те звуки, как при пробе. Мелодию «симфонии» наладить не удалось <...> Неудача первого опыта смущать не должна, но ко второму следует подойти более «опытным» путем <...> и, может быть, отказавшись пока от мелодии, удержать ритм и гармонию» (22).
Сходные впечатления: «К сожалению, симфония не удалась в музыкальном отношении. Вместо «Интернационала» были слышны одиночные и аккордные гудки. И в этой чудовищной мелодии трудно было уловить знакомые мотивы» (21).
Но необходимо учесть еще одно обстоятельство: для восприятия любого сочинения на открытом воздухе, а тем более для восприятия специально создаваемой звуко-музыкальной среды, в которую, вместе с городом, «погружаются» и его жители, необычайно большое значение приобретает «место погружения», точка слушания. Только этим и можно объяснить, что в одном и том же номере одной газеты два рецензента совершенно по-разному описывают свои впечатления от «Гудковой».
Рецензент Е. С.: «Загудели фабричные сирены. Фабричные гудки давали концерт. Замолкла музыка, песнь. Только шли люди и знамена и снова люди. Звуки «Интернационала» перекатывались в волнах людского потока».
 Рецензент Л. Д.: «Инструменты этого странного небывалого оркестра несколько разбросаны: во дворе МОГЭСа несложная конструкция, на которой укреплено 50 паровозных гудков и 3 сирены. За Москвой-рекой против Дворца Труда (ныне — Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского. — С. Р.) «ударный инструмент», который выполняет роль барабана, — батарея орудий. Мелкую дробь дают... красноармейцы из винтовок. Директору симфонии т. Абрамову (опечатка. — С. Р.) приходится стоять несколько выше, чем обыкновенно... на крыше четырехэтажного дома — так, чтобы его видели на обеих берегах реки...
Рецензент Л. Д.: «Инструменты этого странного небывалого оркестра несколько разбросаны: во дворе МОГЭСа несложная конструкция, на которой укреплено 50 паровозных гудков и 3 сирены. За Москвой-рекой против Дворца Труда (ныне — Военная академия имени Ф. Э. Дзержинского. — С. Р.) «ударный инструмент», который выполняет роль барабана, — батарея орудий. Мелкую дробь дают... красноармейцы из винтовок. Директору симфонии т. Абрамову (опечатка. — С. Р.) приходится стоять несколько выше, чем обыкновенно... на крыше четырехэтажного дома — так, чтобы его видели на обеих берегах реки...
— По местам!
Ученики консерватории, среди которых есть и дети, бросаются к проволочным рычагам, соединенным с гудками, — каждый гудок нота.
На крыше дирижер взмахнул флагом... тяжело бухнул «ударный инструмент», перекатываясь рычащим эхом через Замоскворечье, и... что было дальше, могли слышать только те, кто находился на приличном расстоянии от «симфонии»; участники же ее и присутствовавшие были озабочены только одним: как бы поплотнее заткнуть уши, чтобы не лопнули барабанные перепонки» (22). К сожалению, большое число слушателей избрали именно эту, крайне неудачную для «слухового погружения» позицию...
 «Симфония гудков» сильно заинтересовала москвичей. 7 ноября, к 12 часам дня, к Москве-реке начала стекаться публика; вскоре толпа залила не только обе набережные, но и близлежащие Устьинский и Замоскворецкий мосты. Особенно много собралось народу у самой станции МОГЭСа и на противоположном берегу» (23). По-видимому, решающую роль здесь сыграла неточная реклама «Симфонии», ориентировавшая людей именно на «концерт фабричных гудков», на «исполнение ряда номеров на революционные темы» (24). И вот вместо музыки многие, особенно находившиеся в эпицентре звуковой вибрации, услышали «сильный гул», «какофонию»... Это тот самый случай, когда неверная установка решила многое! Причем понятие «установка» я употребляю здесь сразу в нескольких значениях:
«Симфония гудков» сильно заинтересовала москвичей. 7 ноября, к 12 часам дня, к Москве-реке начала стекаться публика; вскоре толпа залила не только обе набережные, но и близлежащие Устьинский и Замоскворецкий мосты. Особенно много собралось народу у самой станции МОГЭСа и на противоположном берегу» (23). По-видимому, решающую роль здесь сыграла неточная реклама «Симфонии», ориентировавшая людей именно на «концерт фабричных гудков», на «исполнение ряда номеров на революционные темы» (24). И вот вместо музыки многие, особенно находившиеся в эпицентре звуковой вибрации, услышали «сильный гул», «какофонию»... Это тот самый случай, когда неверная установка решила многое! Причем понятие «установка» я употребляю здесь сразу в нескольких значениях:
а) психологическая «настройка» слушателей на «премьеру»;
б) неверная позиция (размещение) значительной части публики;
в) неудачная установка основного инструмента — магистрали-«органа»;
г) с самого начала неточное оповещение реклам и критики, увидевшей в «Гудковой» футуристического монстра, угрожающего настоящей музыке (25).
Сам Арсений Авраамов признавал: «С «Гудковой» произошло вот что: благодаря помещению магистрали не на крыше, а во дворе МОГЭСа, звука на Москву не хватило. С другой стороны, сложность гармоний произвела на массу впечатление фальши — знакомые мелодии не узнали — отсюда страшная противоречивость суждений: одни плохо слышали (в зависимости от «района»), другие не поняли. Все остальное о «неудаче» — ерунда: мы сами, исполнители, настолько были уверены в успехе, что, кончив, пошли со своим знаменем «Гудсимфанс» демонстрировать на Красную площадь, а когда я только что спустился с крыши, меня встретили импровизированным приветственным ревом всех гудков и потом принялись качать мои ребята — энтузиасты исполнители — лучшее доказательство успеха — все остальное было вне нашей воли. <...> Слушал и приходил рассматривать конструкцию М.Ф.Гнесин. Он лично считает многие моменты исполнения изумительными по красоте звучания — его отзыв: «коммунистические колокола» (28).
Все это так... И однако существовала еще одна — бесспорно, самая важная неточная установка — творческая установка самого инициатора «Гудковой»! И именно она во многом предопределила неустойчивый культурно-исторический статус «Симфонии». Анализ различных авторских материалов, относящихся к ее замыслу и реализации, отчетливо показывает двойственность идеи этого «эксперимента, понятного миллионам» (выражение, употребляемое в другом контексте С.Эйзенштейном).
С одной стороны, автор прекрасно осознавал его «не-вполне-художественное» значение, это — «аккомпанемент Октябрьскому торжеству».
«Пришла революция. Однажды ночью — незабываемая ночь! — тысячеголосным хором гудков и сирен взревел Красный Питер, и в ответ по глухим переулкам помчались к заставам сотни, грузовиков, ощетинившихся штыками винтовок... Красная гвардия летела навстречу корниловским авангардам... Как хотелось, как нужно было в этот грозный момент связать единой волей ревущий хаос и на смену тревоге дать победный гимн «Интернационала». Be ликий Октябрь. Снова ревут по всей России гудки, бухают орудия... и все еще нет единой организующей воли («Горн»).
Отсюда — сознательная попытка художественного упорядочения, а следовательно, управления звуковой средой целого города; в этом и состоит один из важнейших культурных смыслов «Гудковой».
С другой стороны, профессиональное сознание автора все время «сбивалось» на чисто музыкальный путь решения грандиозной новаторской задачи, заставляло его пользоваться уже имеющимися художественными моделями. Отсюда — «Симфония», попытка построения традиционно тематической (мелодической) композиции (27).
Совмещение в самом замысле двух различных, а во многом и противоположных, типов op ганизации звуковой материи и привело в конечном итоге к противоречивым результатам этого уникального творческого эксперимента. И caм Арсений Михайлович поразительно точно оценивал практическое значение «Гудковой» и не только видел все ее несовершенство и компромисность, но и открыто говорил о них! Привожу все самооценки «Гудковой», которые удалось обнаружить. В сочетании с разнообразными суждениями современников они, думается, дадут достаточно полное представление о месте данного действа в истории советской художественной культуры.
Ноябрь 1923: «Пусть трепещут деспоты — звуки Свободы всегда несутся впереди ее знамени!» — вот каким языком говорили перед Конвентом музыканты Франции: нутека вы, современные? «Современные» имеют лишь один резонный ответ: а что прикажете делать, если наши «камерные» средства звучания отжили свой век, если даже мощи фабричных гудков не хватает на «аудиторию» Москвы?.. Что делать? — обратиться за помощью к презренной «акустике», к «бездушной» машине. Потребовать от науки и техники новых средств — современного масштаба...»
И далее называются следующие программные задачи новой музыкальной науки:
«1. Конструирование радио-музыкальных инструментов, имеющих не только лабораторное, но и колоссальное социально-жизненное значение (неограниченное увеличение силы звука при идеальной интонационной и тембровой точности) <...>
• Топографическая акустика : изучение условий мощного звучания музыкальных аппаратов над целыми городами (научное и техническое развитие идей «Симфонии гудков»)
• Декоративные проблемы в муз-творчестве: законы композиции в условиях уличного «пленэра», изменение звукового облика городской жизни» (28).
1925: «И о чем же прикажете мечтать, когда «сущая» музыка такая жалкая, кисло-сладенькая, а техническая наша слабость тормозит осуществление реально иной «чаемой»?
Автор дважды уже пытался дебютировать с гудками, и что же? Одного только «Гужона» ешё кое-как на пол-Москвы хватает, покрывая своим ревом все остальные... А коли «не хватает» звучности фабричных гудков, о чем, повторяю, мечтать прикажете? Ясно: об аппарате Термена или Ржевкина, установленном на планирующем над Москвою аэро.
Аэро-радио-симфония!
Ее-то мы во всяком случае еще услышим» (29).
1927: «Работа Термена — первая солидная мина под старый музыкальный мир и одновременно — один из краеугольных камней грядущего фундамента нового.
— Это будет уже не примитивно-кустарная «Симфония гудков»!.. (30).
Напомним: первая четверть XX века — время глобальных изменений звукомузыкальной среды, формирования новой, во многом урбанистической реальности, бурное развитие технологии, экспансия радио (родоначальника «средоформирующей» глобальной системы СМК) и стремительный рост семейства электроинструментов, то есть время формирования основных «производственно-технических» компонентов звуковой среды современности» (31).
В музыке — И. Стравинский, в ярмарочных сценах «Петрушки» стремившийся создать художественную форму на основе уходящих в прошлое, а потому и «естественно» эстетизировавшихся элементов исконно русского городского «звукобыта»; А. Кастальский, едва ли не первым в мире сделавший научно-достоверную фонографическую запись «уличной симфонии», характерным элементом которой уже тогда были «резко диссонирующие автомобильные гудки»; Ч.Айвз с его методом прямой фиксации звуковых потоков и почти натуралистического воспроизведения звуковой среды американского города. В живописи — Л.Руссоло с его «Искусством шумов» («брюитизмом»), В. Кандинский, H . Кульбин. Наконец, в литературе и поэзии - Ф.Маринетти, В.Маяковский, А.Гастев... Хочется упомянуть здесь книгу Н.Харджиева и В.Тренина «Поэтическая культура Маяковского» (М., 1970): целые разделы ее посвящены анализу места и роли звуковых реалий города в поэзии не только Маяковского, но и его современников — А. Крученых, В. Хлебникова, Д. и Н. Бурлюков, В. Каменского. При этом выясняется органическая связь музыкального, живописного и поэтического подходов к освоению новой городской реальности, изначально синтетический характер интересующей нас проблемы.
Конечно, я вовсе не рассматриваю тенденции урбанизма как центральные или даже ведущие в художественной культуре эпохи. Но то, что они были заметны и достаточно явно воздействовали на умы и дела многих радикально настроенных деятелей искусств, представляется бесспорным. Такое воздействие вовсе не гарантировало высокого художественного результата. Он достигался лишь в процессе творческого отбора наиболее характерных элементов новой звуковой реальности, отбора всякий раз индивидуального и ярко национального, учитывающего значение отдельных ее пластов в быту и общественном сознании.
Звуковой облик промышленной эры в России прежде всего ассоциировался с разнообразными гудками — автомобильными, паровозными, заводскими и т.п. Гудок постепенно становился звуковой эмблемой современного индустриального города («голос города»), а затем, обрастая новыми ассоциативно-бытовыми смыслами, — и символом высокоорганизованного труда, пролетарского сознания, пролетарского слышания мира.
У Маяковского, например, есть произведение, прямо ассоциирующееся с авраамовской «Гудковой симфонией». Я имею в виду поэтохронику «Революция» (17 апреля 1917 года, Петроград). Сам жанр подразумевает фиксацию реалий, и показательно, что именно выхватывает из бешено несущегося потока новой жизни сознание поэта. Пенье толпы, медь труб, крики, гудки, «Марсельеза», «пулеметный треск» — эта «фонограмма» послефевральского Петрограда почти целиком перекликается с материалом расширенной (бакинской) редакции «Гудковой»! Кстати — Авраамов и Маяковский были лично знакомы...
Но особое, пожалуй, ни с чем не сравнимое место «гудок» и его двойник-антипод «звон» занимают в творчестве упомянутого мною в начале статьи Алексея Гастева— он оказал непосредственное и прямое воздействие как на идею, замысел, так и на практическую реализацию «Гудковой».
Во всех публикациях самого А. Авраамова, начиная со статьи в «Горне», непременно дается эпиграф из стихотворения А. Гастева «Гудки» (1918): «Когда ревут утренние гудки на рабочих окраинах, — это вовсе не зов неволи: это — песня будущего». И в последующих своих статьях-манифестах музыкант, в качестве сильнейшего аргумента, постоянно цитирует поэта. Особенно выделяется в этом смысле статья «Новая эра музыки», где целиком приведен «Ордер 06» из «Пачки ордеров» — последнего поэтического цикла, составляющего четвертую часть («Слово под прессом») знаменитой гастевской «Поэзии рабочего удара», о которой уже говорилось выше; из поэмы «Манифестация» заимствован лозунг: «Музыка, рассчитанная на города, департаменты, государства». Наконец, А.Гастеву принадлежит и само определение «симфония» применительно к современным празднично-производственным звуковым комплексам: еще в 1919 году поэт призвал к созданию «симфонии рабочих ударов и машинного топота и гула» (32).
Итак, «Ордер 06»:
| Азия — вся на ноте ре. Америка — аккордом выше. Африка — си-бемоль. Радиокапельмейстер. Циклоновиолончель — соло. По сорока башням смычком. Оркестр по экватору. Симфония по параллели 7. Хоры по меридиану 6. Электроструны к земному центру. Подержать шар земли в музыке четыре времени года. Звучать по орбите 4 месяца пианиссимо. Сделать четыре минуты вулканофортиссимо. Оборвать на неделю. Грянуть вулканофортисснмо кресчендо. Держать на вулкано полгода. Спускать до нуля. Свернуть оркестриаду (33). |
Грандиозно-утопический, основанный на предельной гиперболизации эвуко-шумовых реалий индустриальной культуры, мир поэзии А. Гастева был, судя по всему, ближе всего А.Авраамову. Более того, сам тип мышления обоих художников характеризуется оригинальнейшим соединением рационального изобретательства, публицистической манифестационности — художественной нормы претворения этих не вполне, а часто и внеэстетических идей!..
За пределами статьи остались: проблема «музыкального пленэра», тема «НТР и революция в музыке», критический анализ пролетарской концепции «производственной музыки» и т. д. Все это сделано сознательно, ибо, по моему глубокому убеждению, «Симфония гудков» — явление прежде всего социальное. Точнее, впрочем, выразился сам А. Авраамов, который считал свой эксперимент не столько художественным, сколько «музыкально-социально-гигиеническим». Изменение звукового облика города, создание управляемой звуковой среды — эти гигантские даже и по нынешним временам задачи — практически решались не только в планомерной работе по культурному просвещению масс, оздоровлению бытового репертуара, активизации самодеятельного творчества и т. д., но и в таких сугубо праздничных творческих экспериментах.
...И в наши дни палят пушки, завершая цвето-шумовым аккордом салюта праздничную симфонию Октябрьских годовщин. И сегодня вся страна, отдавая дань уважения и любви своим вождям, замирает, слушая скорбный плач тысяч и тысяч гудков — плач земли, городов, дорог... И хотя выросло уже целое поколение, не слышавшее ни боевой канонады, ни ежедневных гудков, — эти звукосимволы войны и мира, горя и радости, будней и празднеств продолжают восприниматься во многом так же, как и в далекие годы молодости нашей Отчизны...
ПРИМЕЧАНИЕ
1 «Восстание культуры». В кн.: А. Гастев. Поэзия рабочего удара. М., 1964, с. 201, 203, 255. Книга эта за короткий срок выдержала шесть изданий, побив, пожалуй, все рекорды среди поэтических сборников того времени.
2 Д.Житомирский. Идеи и искания А. Д. Кастальского. В сб.: «А. Д. Кастальский. Статьи, воспоминания, материалы». М., 1960, с. 81.
3 С.Степанова. Музыка народу. Вступ. ст. к сб. «Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября». М., 1972, с. 27—28.
4 Статья И.Ямпольского в Музыкальной энциклопедии, т. 1, М., 1973, стлб. 29—30.
5 «Музыка XX века. Очерки», ч. II . 1917—1945. Кн. III . М., 1980, с. 501. Приведенное высказывание принадлежит В. Егоровой.
б См.: «Горн», 1923, кн. 9. В дальнейшем — в тексте в скобках («Горн»).
7 О насыщенности и эффективности его фольклористическо-композиторско-дирижерской деятельности в Нальчике (30-е годы) лучше всего говорит то глубокое уважение, которым и сегодня окружена память об Арсении Михайлвиче в среде деятелей культуры К.-Б. АССР. Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность А.Г.Шахгалдяну и А.Т.Шортанову за сообщение ими интересных сведений о кавказском периоде жизни Арсения Михайловича.
8 Октябрьская симфония гудков. «Рабочая Москва», 1923, 26 октября.
9 Симфония гудков. «Известия» ВЦИКа, 1923, 9 ноября.
10 Письмо от 3 ноября 1923 года. Архив Р. И. Михаилевой-Микулинской. Без ее любезной помощи, выразившейся отнюдь не только в предоставлении возможности подробнейшего изучения уникальных рукописных материалов (в частности, все письма автора «Гудковой», цитируемые здесь, находятся в архиве Ревекки Исааковны), эта статья вообще не могла быть написана.
11 Письмо от 11 ноября 1923 года.
12 Автограф хранится в архиве Р. И. Михайловой-Микулинской.
13 Но реконструкции именно художественной, а не документально-иллюстративной! «Постановка соединяла в себе несколько театральных методов, — писал П. Керженцев. — На первой, белогвардейской, площадке действие разыгрывалось в комедийном стиле. На второй — красной — в тона! героической драмы, а на третьей — в тонах батального зрелища». П.Керженцев. Творческий театр. М., 1923, с. 143.
14 «В разгаре панического бегства женского батальона и части юнкеров за Временным правительством, представители которого скрываются в Зимнем дворце, гаснут обе
платформы, и выступает сперва мрачный, а потом оживающий мигающими пятьюдесятью окнами последний оплот керенщины. Это постепенное мигание, зажигание и выключение света в окнах дает иллюзию внутренней суетни, замешательства, душевных переживаний этого громадного здания. Кроме того, в каждом вспыхивающем окне разыгрывается какая-нибудь сцена борьбы». Там же, с. 144.
15 «Бакинский рабочий», 1922, 6 ноября.
16 «Известия Отдела Управления» Моссовета, 1921. 11 ноября
17 «Известия» ВЦИКа, 1923, 9 ноября. (Разрядка моя,— С . Р. )
18 «Правда», 1923, 14 ноября.
19 А. Углов. Звуки Москвы в Октябрьскую годовщину. «Известия» ВЦИКа, 1923, 11 ноября.
20 М. Данилов. В Баку. Заметки. «Бакинский рабочий», 1923, 9 ноября.
21 Симфония гудков. «Известия» ВЦИКа, 1923, 9 ноября.
22 «Рабочая газета», 1923, 9 ноября.
23 «Известия» ВЦИКа, 1923, 9 ноября.
24 Содержание празднования шестилетия Октябрьской революции 4, 5, 6 и 7 ноября. «Известия» ВЦИКа, 1923, 4 ноября.
25 Так, Д. Васильев-Буглай писал: «Симфонической музыке, по-видимому, уже угрожает «Гудковая симфония», впервые исполнявшаяся в шестую годовщину Октября, хотя, по правде сказать, эта симфония на первый раз больше напоминала «какофонию».
Д. Васильев-Буглай. Хоровая работа в массах. «Музыкальная новь», 1923, № 3.
26 Письмо от 11 ноября 1923 года.
27 Реальная (воспринимаемая в условиях пленэра) гармония «Гудковой» была, как уже ясно, чисто сонорного типа и безусловно не укладывалась в систему равномерной темперации. И здесь налицо снова двойственность: А. Авраамов, еще до революции экспериментировавший с «ультрахроматическими» нетемперированными тональными системами, пошел здесь по пути функциональной гармонизации популярных песен и гимнов. Справедливости ради отметим, что обе редакции рассматривались им лишь как первые опыты; в перспективе же он думал о новых, невиданных еще, но безусловно прекрасных гармониях и гармоние-тембрах на основе введения в творческую практику новых тональных систем, освоения новых электромузыкальных инструментов, неевропейского музыкального фольклора и т.д.
28 Рукописный проект «Декларации нового ГИМНа» (в организации ГИМНа А. Авраамов принимал деятельное участие). Архив Р. И. Михаиловой-Микулннской.
29 Авраамов. Новая эра музыки (НЭМ). «Советское искусство», 1925, № 3.
30 А. Авраамов. Возрождение музыки. «Термснвокс». «Рабис», 1927, ni 23.
31 См. в этой связи одноименную статью Г. Орджоникидзе. В сб.: «Музыкальный современник». Вып. 4. М., 1983.
32 Воззвание Литературного комитета Всеукраинского Совета Искусств, напечатанное в «Известиях временного рабоче-крестьянского правительства Украины и Харьковского Совета рабочих депутатов», 1919, 28 января.
33 См. кн.: А. Гастев. Поэзия рабочего удара. М., 1964, с. 193.